Фёдор Тютчев вошёл в историю как поэт-философ, чуткий к тайнам природы и человеческого сердца. В его стихах бушуют грозы весны и безмолвствуют глубокие мысли. Его строки то прозрачно просты, то загадочны, будто природа-сфинкс, которую он стремился разгадать. Потомки назовут его поэтом мудрой тишины и страстной любви – поэтом мысли, природы и сердца. Но за величавой поэзией стоит драматическая и богатая событиями жизнь, полная странствий, любви и утрат, которую мы проследим с самого начала.
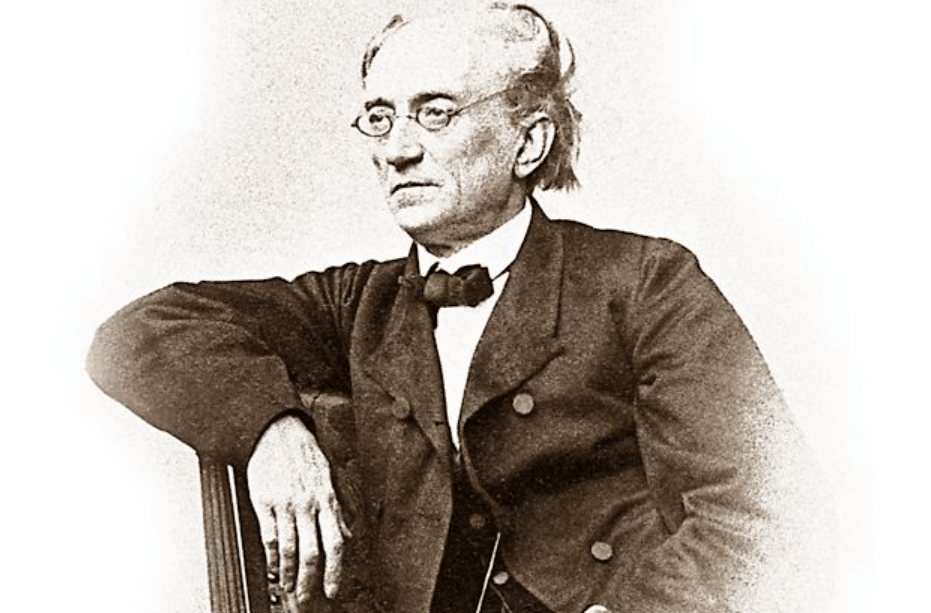
Детство и юность (1803–1821)
Фёдор Иванович Тютчев родился 5 декабря 1803 года в родовом имении Овстуг Орловской губернии – старинном дворянском гнезде фамилии Тютчевых. Семья его была дружной и образцовой: современники вспоминали, что в доме Тютчевых царили гармония и простота. Историк Михаил Погодин, бывавший у них, писал: «Смотря на Тютчевых, думал о семейственном счастии. Если бы все жили так просто, как они». Родители – Иван Николаевич и Екатерина Львовна – окружали детей заботой и дали им блестящее домашнее образование. Отец, служивший в кремлёвской экспедиции, с детства привил Фёдору любовь к истории, а мать, происходившая из рода Толстых, славилась умом и просвещённостью. В их московском доме кипела светская жизнь, но в Овстуге – цветущем и безмятежном – прошли самые светлые дни детства поэта. Спустя годы, находясь на чужбине, Тютчев тосковал по родному поместью: «Когда ты говоришь об Овстуге, прелестном, благоуханном, цветущем, безмятежном, – ах, какие приступы тоски по родине овладевают мною…» – признавался он в письме жене.
Воспитанием Фёдора занимались лучшие наставники. Сначала крепостной учитель Николай Хлопов выучил его грамоте, а после Отечественной войны 1812 года родителям удалось нанять знаменитого наставника Семёна Раича – поэта и переводчика. Под его руководством одарённый ученик уже в тринадцать лет блистательно переводил оды Горация. Раич пробудил в нём вкус к античной литературе и сам стал первым адресатом ученических стихов Тютчева. Одно из своих первых произведений, вдохновенно восхваляющее учителя («На камень жизни роковой»), юный поэт посвятил именно С. Е. Раичу. Современники отмечали чрезвычайную мягкость и духовность мальчика: «Ребёнок был чрезвычайно добросердечен, кроткого, ласкового нрава… все свойства его детской природы были скрашены особенно тонкой, изящной духовностью. Благодаря своим удивительным способностям, учился он необыкновенно успешно» – вспоминал Иван Аксаков. Действительно, учёба давалась ему легко: он жадно читал русских классиков – Державина, Жуковского, Ломоносова – и изучал исторические труды Карамзина. Уже в 14 лет Фёдора приняли в Общество любителей российской словесности, где профессор Алексей Мерзляков зачитывал его оду на новогоднем собрании.
В 1819 году, с блеском сдав экзамены, 15-летний Тютчев поступил на словесный факультет Московского университета. Среди его университетских друзей были будущие светила: историк М. Погодин, поэт Д. Веневитинов, писатель В. Одоевский. Юный поэт блистал эрудицией, участвовал в литературных беседах и сам сочинял стихи. В студенческие годы он уже ощущал себя частью литературного процесса – недаром прощаясь с университетом в 1821 году, Фёдор посвятил товарищам вдохновенные строки «Весеннего приветствия стихотворцам». Университет окончить ему удалось досрочно – на год раньше положенного – с позволения самого министра просвещения. Казалось, перед блестящим выпускником открывались все двери. И вскоре судьба действительно распахнула перед 18-летним Тютчевым двери большого мира – мира дипломатии и европейских столиц.
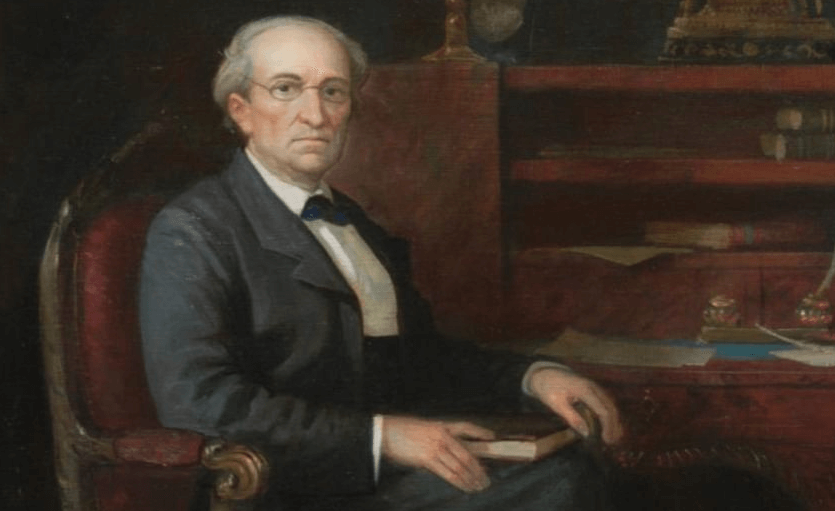
Дипломатическая служба за границей (1822–1844)
Окончив университет, в 1822 году Тютчев переехал в Санкт-Петербург и поступил на службу в Коллегию иностранных дел. В северной столице он жил в доме своего дальнего родственника, героя 1812 года графа Остермана-Толстого, по протекции которого талантливого юношу вскоре определили секретарём дипломатической миссии в Мюнхене. Так началась зарубежная эпопея Тютчева – целых двадцать два года он провёл в королевстве Бавария, лишь изредка приезжая в Россию и окончательно вернувшись домой в 1844 году.
Молодой русский дипломат окунулся в блистательный мир мюнхенского двора и европейской культуры. Он знакомился с великими умами своего времени: в мюнхенских салонах Тютчев встречался с философом Фридрихом Шеллингом, беседовал с легендарным поэтом Иоганном Гёте, часто виделся с остроумным Генрихом Гейне. По вечерам при свечах звучали разговоры о поэзии и музыке, и Фёдор Иванович жадно впитывал всё новое. Он свободно говорил по-французски и по-немецки, переводил на русский труды немецких романтиков – например, «Песнь радости» Фридриха Шиллера. В письмах и спорах проявлялся тонкий мыслитель: Тютчев обменивался идеями с иностранными учёными, писал публицистические статьи на французском языке, стремясь донести до Европы взгляд русской души. Однако долгое пребывание за границей не сделало его чужим для родины – напротив, чем дольше он жил вдали, тем более чувствовал себя русским в глубине сердца. Лучшие черты западной культуры он соединял с исконно русским мировосприятием. Позже литературоведы отмечали разносторонность его европейских влияний: Тютчев ценил не только немецких философов, но и поэзию Байрона, трагедии Шекспира, был прекрасно знаком с французскими романтиками и историками. «Мюнхен, а потом и Турин «вдвинули» его в Европу, дав возможность видеть жизнь целого континента, не теряя, впрочем, связи с Россией» — писал литературовед Наум Берковский.
Конечно, дипломатическая служба оставляла время и для собственного творчества. В мюнхенский период Тютчев не выпустил отдельной книги, но именно тогда создал свыше семидесяти стихотворений – самые первые из тех, что прославят его имя. Он пишет о грозной красоте природы («Весенняя гроза»), о тайнах вселенной («Как океан объемлет шар земной…»), о сокровенном молчании души («Silentium!»). Критики отмечали, что в ранних опытах чувствуется школа Жуковского и классическая торжественность Державина, а позднее – отзвук пушкинской гармонии, однако почерк Тютчева с самых первых строк самоценен и оригинален. Молодой поэт писал не ради славы – стихи рождались как внутреннее откровение, не предназначенное для публики. Неудивительно, что он не спешил их печатать и отсылал в российские журналы лишь по настойчивым просьбам друзей. Тем не менее, его московские знакомые – учитель Раич, братья Киреевские, историк Погодин – сумели опубликовать несколько стихотворений Фёдора Ивановича в журналах «Галатея» и «Денница» в 1829–1830 годах. Эти первые робкие публикации прошли почти незамеченно; имя Тютчева оставалось неизвестным широкой аудитории вплоть до середины 1830-х.
Впрочем, в жизни молодого дипломата тогда бурлили и другие, не литературные, страсти. В Мюнхене Тютчев пережил своё первое большое чувство. Он без памяти влюбился в юную графиню Амалию фон Лерхенфельд – блестящую красавицу при баварском дворе. Ему было двадцать, ей – пятнадцать, и в нежном взгляде Амалии Фёдор искал отражение собственных пламенных чувств. Для неё он сочинял романтические послания («Твой милый взор, невинной страсти полный…»), для неё переводил стихи и блистал остроумием на балах. Но судьба этой любви оказалась трагической: высокопоставленная семья не позволила юной графине связать жизнь с бедным русским дипломатом. Когда у Амалии появился другой поклонник, отчаянный Тютчев едва не вызвал соперника на дуэль. Лишь вмешательство начальства предотвратило скандал – поэта срочно отозвали в Петербург на несколько месяцев. Расставание было неизбежным. Амалия фон Лерхенфельд вскоре вышла замуж за барона Крюденера, а Тютчев по возвращении в Мюнхен попробовал залечить сердечную рану союзом скорее рассудка, чем сердца.
В 1826 году он женился на Элеоноре Петерсон – двадцатисемилетней вдове русского дипломата. Этот брак, возможно, был устроен родственниками, желавшими Фёдору добра. Элеонора (немка по происхождению) осталась с четырьмя детьми на руках после смерти первого мужа, и Тютчев принял её семью, а затем у них родилось ещё три дочери. Неизвестно, была ли в этом браке пылкая любовь, но Тютчев глубоко ценил самоотверженность жены. «Никогда ни один человек не любил другого так, как она меня… не было ни одного дня в её жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновения, умереть за меня» – признавался он родителям. Элеонора действительно окружила его заботой и нежностью, разделяя скромный образ жизни провинциального дипломата. Жалованье Тютчева было невелико, в Мюнхене супруги жили более чем скромно, и Фёдор Иванович нередко чувствовал себя не на своём месте.
Тем временем на родине происходило важное событие для его литературной судьбы. В 1836 году в Петербурге Александр Пушкин узнал от друзей о таланте некоего тайнописца из Мюнхена и захотел сам прочесть его стихи. Дипломат Иван Гагарин, друг Тютчева, привёз из Германии заветную тетрадь с рукописями и передал её Пётру Вяземскому и Василию Жуковскому. Они были восхищены: поздно ночью Гагарин застал двух признанных поэтов за горячим обсуждением тютчевских строк, которые поразили их глубиной чувства. «Нельзя было не заметить всю прелесть этой простой и глубокой мысли», – писал он Тютчеву. Вяземский и Жуковский поспешили показать найденное сокровище Пушкину. Тот был в восторге и целую неделю «носился» с этими стихами, по свидетельству Юрия Самарина. В результате в пушкинском журнале «Современник» появилась подборка «Стихотворений, присланных из Германии» – первая громкая публикация Тютчева. Пушкин лично отстоял в цензуре смелое стихотворение «Не то, что мните вы, природа…», вставив вместо изъятых строк многозначительные точки. Российская литература открыла для себя новое имя. Увы, сам Пушкин не успел поздравить автора: через несколько месяцев он погиб на дуэли. А Тютчев, узнав о его смерти, откликнулся скорбным элегическим посланием «29-е января 1837», где назвал Пушкина «богов орган живой», чья гибель – «великий и святой жребий».
После этой первой вспышки известности жизнь Тютчева продолжала идти своим чередом. В 1837 году он на несколько месяцев приезжал в Россию, повидался с родными и вновь уехал в Европу. Но тучи уже сгущались: впереди поэта ждали тяжелые испытания. В 1838 году Тютчева перевели с семьёй на новую должность в Турин (Италия). Элеонора с детьми отправилась к мужу морем, и во время плавания случилась беда – пароход загорелся у берегов Германии. Семью спасли, никто не пострадал, но пережитый ужас подорвал здоровье Элеоноры. Спустя несколько месяцев, в августе 1838 года, первая жена поэта скончалась после тяжёлой болезни, оставив его с маленькими дочерьми на руках. Эта утрата потрясла Тютчева, однако одиноким он оставался недолго. Уже через несколько месяцев опустевшее сердце вновь искало любви и тепла – и нашло их в давно близкой его душе женщине.
Ещё в 1833 году, будучи женат, Фёдор познакомился в Мюнхене с юной графиней Эрнестиной фон Дёрнберг (фон Пфеффель при рождении). Красавица Эрнестина, фрейлина баварского двора, была пленена умом и романтическим обликом русского поэта. Их дружба быстро переросла в тайную страсть: существуют сведения, что у них родился сын ещё при жизни Элеоноры. После смерти первой жены ничто уже не мешало им соединиться официально. В конце 1838 года Тютчев обвенчался с Эрнестиной в Швейцарии, не дождавшись разрешения начальства, из-за чего впоследствии имел неприятности по службе. Но влюблённые не думали о формальностях. Поэт посвящал Эрнестине любовные стихи – такие, как «Люблю глаза твои, мой друг…», полные нежности. В браке с ней Тютчев обрёл спокойную гавань: Эрнестина разделяла его интеллектуальные интересы и долгие годы была верным другом. Она родила Фёдору Ивановичу пятерых детей, став надёжной опорой его поздней жизни.
После второго женитьбы Тютчев всерьёз задумался о возвращении на родину. Ещё в 1839 году он подал прошение об отставке. Некогда блестящая дипломатическая карьера к тому моменту складывалась не лучшим образом: из-за самовольной отлучки для свадьбы его фактически уволили из службы. Оставшись без официального положения, поэт проводит начало 1840-х в Мюнхене в ожидании подходящего случая уехать. Такой случай представился благодаря его увлечению политикой. В 1843 году Тютчев написал цикл философско-публицистических эссе о судьбах России и Европы и показал их влиятельному знакомому – шефу жандармов графу Александру Бенкендорфу. Тот, к удивлению автора, нашёл идеи интересными и доложил самому императору Николаю I. Николай благосклонно отозвался о записках Тютчева и пригласил их автора в Петербург на личную аудиенцию. Поэту было чем гордиться: его консервативно-монархические взгляды, призывы отгородить Россию от революционного Запада, явно пришлись царю по душе. Воодушевлённый, Тютчев верил, что теперь сможет повлиять на политику, публикуясь в европейской прессе с поддержкой Николая. В сентябре 1844 года он с семьёй окончательно вернулся в Россию. Однако судьба снова сыграла с ним злую шутку: через три дня после приезда скоропостижно скончался Бенкендорф – единственный его покровитель при дворе. Смерть всесильного графа перечеркнула все смелые проекты Тютчева, рожденные в эмиграции. Пришлось начинать петербургскую жизнь почти с нуля, без высоких заступников, зато с богатым жизненным багажом и крепким закалённым талантом.

Возвращение в Россию: Петербургские будни (1844–1850-е)
Вернувшись в Петербург, Фёдор Тютчев вновь поступил на службу в Министерство иностранных дел, однако карьера его продвигалась медленно. Ему дали должность старшего цензора иностранной прессы, но ни чиновничьи заботы, ни скромное жалованье не приносили удовлетворения. Он иронично называл своё начальство «скопищем кретинов» и признавался, что бросил бы службу, «если бы не был так нищ». Каждый день по долгу службы Тютчев просматривал зарубежные газеты, выискивая подрывные идеи, и тяготился этой рутиной. Зато вне работы он раскрылся в другом качестве – блестящего салонного рассказчика и острослова. Высший свет столицы быстро разглядел в нём не только поэта, но и тонкого собеседника. Тютчева приглашали в лучшие дома, на балы и литературные вечера. В гостиной у князей и графов он чувствовал себя на редкость свободно: мог поддержать беседу о мировой политике или тонко пошутить на французском, чем приводил дам в восхищение. «Много мне случалось разговаривать и слушать знаменитых рассказчиков, но ни один из них не производил на меня такого чарующего впечатления, как Тютчев», – вспоминал писатель Владимир Соллогуб. Стоило Фёдору Ивановичу начать говорить, как все вокруг умолкали, ловя каждое слово – то остроумное и колкое, то нежное и доброе. И главное – в его импровизациях не чувствовалось ни капли фальши или заученности: он блистал непринуждённо, сыпал шутки и истории словно жемчужины. Тютчев прослыл душой общества, хотя сам оставался в душе наблюдателем – с лёгкой улыбкой, со скрытой печалью, с проницательным взглядом философа, для которого светская мишура не заслоняла вечных вопросов.
В эти же годы (конец 1840-х) Тютчев увлечённо занимается публицистикой и политической философией. Он задумывает большой трактат «Россия и Запад», в котором пытается обосновать особый исторический путь России и её миссию в мире. По убеждениям Тютчева, Россия – оплот духовности и порядка, наследница Византии, призванная объединить славянские народы под сенью православного царя. Эти идеи роднят его со славянофилами, хотя выражал он их по-своему поэтически и страстно. Он призывал к геополитической экспансии — идейно близкой панславизму, грезил, к примеру, взятием Константинополя, — но одновременно настаивал на христианском смирении и единстве. В трактате, увы, осталась лишь рукопись, а публике достались отдельные статьи Тютчева. На французском языке он печатает в журналах программные тексты: «Россия и революция», «Россия и Германия» и другие, стремясь донести позицию России до Запада. В 1857 году он выступил даже с остроумной статьёй «О цензуре в России», где весьма дерзко намекал правительству, что с таким подходом к печати «надежда приобрести влияние на умы… оставалась бы постоянным заблуждением». Парадокс: сам возглавляя цензурный комитет, Тютчев ратовал за смягчение цензуры – и на деле действительно разрешил ввоз многих иностранных книг, ранее запрещённых.
В поэтическом же плане эти несколько лет оказались затишьем: Тютчев почти не писал стихов с 1844 по 1848 год. Возможно, сказались служебные хлопоты и новая семья – на сочинительство не оставалось ни времени, ни душевных сил. Но вскоре на исходе 1840-х его поэтический голос прозвучал вновь, и как громко! Молодое литературное поколение, возглавляемое Некрасовым и Тургеневым, «открыло» для России талант Тютчева, ранее известный лишь узкому кругу. В 1850 году Николай Некрасов напечатал статью, где назвал Тютчева «русским первостепенным поэтическим талантом». Вслед за этим в журналах появились новые и старые стихотворения поэта, и читатели поразились глубине мысли и музыке стиха. Некрасов и Тургенев собрали лучшие тютчевские творения и издали первый поэтический сборник в 1854 году – тираж в 3000 экземпляров (очень большой по тем временам) разошёлся мгновенно. Так, почти в пятьдесят лет, Фёдор Иванович обрёл настоящую литературную славу на родине – запоздалую, но бурную.
Поэзия зрелого периода (1850–1860-е)
Набрав полную грудь творческого воздуха, Тютчев в 1850–60-е годы создал свои величайшие стихотворения. Он вновь предавался стихии лирики – то философской, то пейзажной, то интимно-любовной. Именно в это десятилетие на бумагу легли проникновенные строки: «Как дымный столп светлеет в вышине!..», трагическое «Слёзы людские, о слёзы людские…», исповедальное «О, как убийственно мы любим…». Но вершиной тютчевской любовной лирики стал цикл, который позднее назовут «денисьевским» – по имени той музы, что вдохновила поэта на эти стихи.
В конце 1840-х, навещая своих дочерей от первого брака в Смольном институте благородных девиц, Тютчев познакомился с юной воспитанницей Еленой Денисьевой. Ей было около двадцати, ему – за сорок; она училась вместе с его дочерьми. Этот встреченный на закате лет светлый образ воспламенил душу поэта. Между Тютчевым и Еленой завязалась тайная романтическая связь, которая продлилась почти пятнадцать лет – до самой смерти Денисьевой в 1864 году. Связь эта была незаконной: Тютчев не мог развестись с Эрнестиной, а общество непримиримо осуждало «греховную любовь» женатого сановника и юной девушки. Елена Денисьева сознательно пошла на жертву ради чувства: она отказалась от замужества, от карьеры, бросила вызов светским условностям. «Мне нечего скрываться и нет необходимости ни от кого прятаться: я более ему жена, чем бывшие его жены, и никто в мире никогда его так не любил и не ценил, как я его люблю и ценю», – писала она гордо. Для общества Денисьева осталась «падшей», ей пришлось вынести холод людей и тяжесть совести, но она не отступила. Тютчев же разрывался между долгом и страстью: дома его ждала любящая жена Эрнестина и дети, а сердце стремилось к Елене. Он словно жил две жизни – официальную и тайную, и эта тайна рвалась наружу в стихах.
Любовные стихотворения Тютчева 1850-х годов читаются как лирический дневник запретной страсти. В них – счастье тайных свиданий и муки неизбежного раскаяния. «О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей…» – горько восклицает поэт, сознавая, какую боль принёс любимой. Стихотворения «Последняя любовь», «К. Б.» (обращённое к Амалии Крюденер), «Она сидела на полу…» – все они наполнены меланхолией позднего чувства, которое «нежней мы любим и суеверней». Тютчев, достигший шестидесятилетия, переживал свою осень сердца – и эта осень озарилась ярким пламенем. Елена родила ему троих детей, фактически став второй женой без венца. Поэт заботился о ней, насколько мог, снимал для нее квартиру в Петербурге, навещал под вымышленным именем. Но он не мог защитить её от злых языков и сплетен.
Пока сердце поэта разрывалось между двумя семьями, служебная и общественная жизнь его шла своим чередом. В 1857 году Фёдор Иванович получил повышение по службе: возглавил Комитет иностранной цензуры. Парадоксально, но консервативный «цензор Тютчев» придерживался взвешенной политики: допуск зарубежных изданий расширился, цензурные ограничения ослабли. Одновременно он активно публиковался как публицист, отстаивая свои взгляды. Многие отмечали: Тютчев как никто умел соединить поэтическое дарование с политическим темпераментом. «Политика и поэзия были сущностью его жизни», – писал современник. Действительно, днём Тютчев писал записки о внешней политике, а ночью – стихи о судьбах мира. В 1862 году министром иностранных дел стал давний лицейский друг Пушкина князь Александр Горчаков, с которым Тютчев быстро сблизился. Они переписывались, обсуждая европейские дела, и поэт чувствовал себя востребованным как мыслитель. Он разделял идеи о самобытном пути России. Эти идеи он облекал и в поэтическую форму: в начале 1860-х выходят его политические стихотворения «Молчит сомнительно Восток…», «Славянам» и знаменитое четверостишие «Умом Россию не понять…». Последнее стало крылатым выражением, точно передавшим веру поэта в особенную судьбу России. Так, к концу 1860-х Тютчев предстаёт сразу в трёх обличьях: высокопоставленного чиновника, пламенного публициста-патриота и глубоко интимного лирика. Это сочетание несхожих ролей делает его фигуру уникальной в русской литературе.
Последние годы (1860-е – 1873)
В начале 1860-х тучи неумолимо сгустились над личным небосклоном поэта. Елена Денисьева, изнурённая переживаниями, начала тяжело болеть. Тютчев часто хворал вместе с ней – словно их судьбы шли рука об руку. «Фёдор Иванович опять заболел и сильно: он в постели, и не менее как на неделю…» – писала Елена сестре. В марте 1864 у них родился третий ребёнок, сын Николай. Радость отцовства омрачалась тревогой: Елена чувствовала, что угасает. Летом 1864 года она скончалась, не дожив и до 35 лет. Для Тютчева это был удар непоправимый. Он будто осиротел душой. «Пустота, страшная пустота… Даже вспомнить о ней – вызвать её, живую, в памяти… и этого не могу. Страшно, невыносимо…» – писал он о смерти Елены. Опустел не только его тайный мир, но и дом: в следующем, 1865 году, от болезней умерли двое младших детей Тютчева и Денисьевой – маленькие Женя и Коля. В живых из этой линии остался лишь старший сын Фёдор, которого приютила у себя взрослая дочь поэта Анна. Менее чем за год Фёдор Иванович потерял любимую женщину и двух малышей – беды, от которых седеют волосы и черствеет сердце.
В эти траурные годы поэт стал уходить в себя. Почти все его поздние стихи посвящены памяти погибшей любви. Он часто вспоминает молодость, умершую вместе с Еленой, размышляет о скоротечности жизни, старости, боге и смерти. В 1864 году, пытаясь развеяться, Тютчев ездил лечиться за границу – побывал на юге Франции, в Ницце.
После смерти Денисьевой Тютчев сам сильно утратил здоровье. В 1866 году скончалась его престарелая мать, Екатерина Львовна. Он стал хуже видеть, иногда с трудом говорил. Родные уговаривали его оставить службу и уехать в тихий Овстуг оправиться, но поэт упрямо не желал покоя. «Тютчев был тяжело болен, но признавать этого не хотел и порывался к деятельной жизни», – отмечал биограф. И правда, даже почти ослепнув, он продолжал диктовать стихи и статьи. Каждое утро просил жену читать ему газеты – страстно следил за событиями франко-прусской войны 1870 года. Со всеми посетителями старый поэт горячо обсуждал свежие новости, словно был молодым публицистом. «По своему неисправимому легкомыслию я, по-прежнему, не могу не интересоваться всем, что происходит в мире, словно мне не предстоит вскоре его покинуть…» – писал он дочери в 1872 году с легкой усмешкой над самим собой. В этих словах – весь Тютчев: стоя одной ногой в вечности, он другой ещё упирался в шумную современность, жадно живя мыслью.
В 1870 году судьба сделала поэту удивительный подарок: в Германии он встретился со своей давней юношеской возлюбленной, Амалией фон Крюденер (урождённой Лерхенфельд). Ей было за шестьдесят, ему – под семьдесят. Почти полвека прошло с тех пор, как они были молоды и счастливы в Мюнхене. Их случайная встреча на курорте – два пожилых человека, узнавших друг в друге тени прежней красоты – произвела на Тютчева глубокое впечатление. Спустя несколько дней после этой эмоциональной встряски он написал своё знаменитое стихотворение «Я встретил вас – и всё былое…», пронизанное светлой грустью возвращённой памяти. В нём дрогнуло и расцвело то, что казалось давно погребённым: «Тут не одно воспоминанье, тут жизнь заговорила вновь…». Эти строки стали лебединой песней любви в творчестве Тютчева.
Последние месяцы жизни Фёдора Ивановича были тихи. Он по-прежнему жил на два дома – в Петербурге и под Петербургом, в Царском Селе, куда семья переехала ради его здоровья. Летом 1873 года поэт перенёс инсульт, после которого уже не оправился. 15 (27) июля 1873 года Фёдор Тютчев скончался в Царском Селе на 70-м году жизни. Похороны прошли без особой пышности, на Новодевичьем кладбище Петербурга. Проститься с поэтом пришли друзья, родные, несколько литераторов. Казалось, что вместе с ним ушла целая эпоха – эпоха пушкинских современников, романтиков первой половины века. Но осталось главное – его бессмертная поэзия, которой суждена была долгая жизнь.
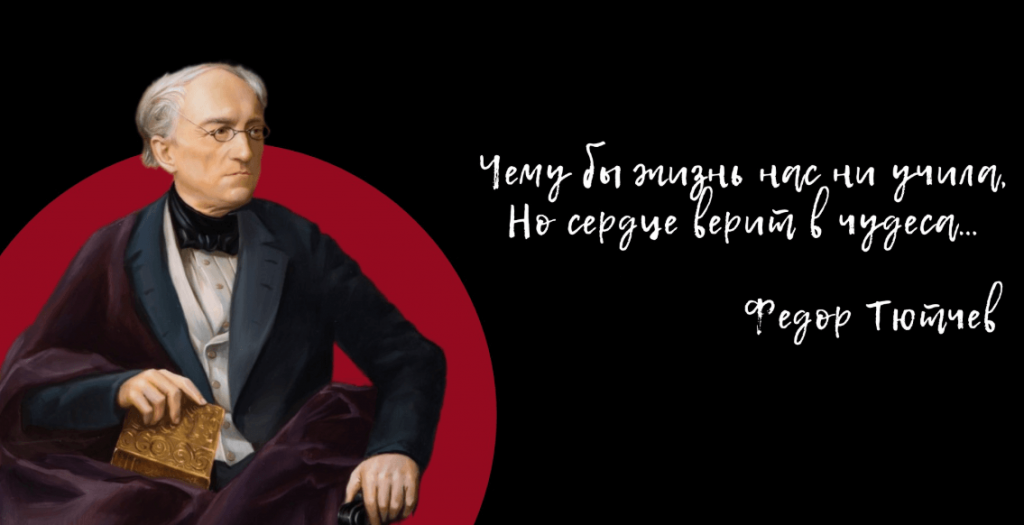
Наследие
Фёдор Иванович Тютчев оставил после себя не слишком обширное, но поистине бесценное литературное наследие – около 300 стихотворений, несколько публицистических статей и переводов. Однако по значению этого наследия Тютчев стоит в одном ряду с величайшими мастерами русской словесности. Его поэзия уникальна сплавом философской глубины и яркой эмоциональности, гражданской страсти и интимной исповедальности. Он одним из первых в русской лирике заговорил о том, что мысль и чувство – равноправные герои поэтического произведения, о том, что природа полна сокровенного смысла, который человек лишь смутно угадывает. Многие его строки вошли в саму ткань русского языка: «Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся…» – эти крылатые изречения знает почти каждый. По словам самого Тютчева, «я люблю поэзию и мою страну превыше всего в мире» – и действительно, любовь к России пронизывает и его стихи о природе, и политические статьи, и восторженные оды славянскому братству.
Особое место в наследии Тютчева занимает любовная лирика, во многом автобиографическая. Стихи, вдохновлённые романом с Еленой Денисьевой, признаны одними из самых проникновенных и страстных в мировой поэзии. В них трагедия любви раскрыта с такой искренностью и психологической точностью, что ими зачитывались и зачитываются поколения читателей. Многие позднейшие поэты учились у Тютчева передавать невыразимое слово – мгновения душевной жизни, когда молчание красноречивее речи. Недаром Александр Блок и другие символисты видели в нём своего предшественника, открывателя новой поэтической вселенной. Валерий Брюсов называл тютчевскую лирику «самостоятельной, своеобычной», одной из самых значительных по глубине чувства. Влияние Тютчева ощутимо и у поэтов Серебряного века, и даже в советской песенной традиции (стихотворение «Я встретил вас…» стало популярным романсом).
Сегодня Фёдор Тютчев по праву считается одним из величайших русских поэтов XIX века. Его тончайшая философская лирика о природе предвосхитила многие идеи позднейших мыслителей, а исповедальные любовные стихотворения заложили основы традиции психологической поэзии. Он прожил жизнь дипломата и публициста, но прославился как гениальный поэт, сумевший слить воедино мысль и чувство, политику и поэзию в своих строках. Каждое новое поколение находит в тютчевских стихах свои смыслы – будь то раздумья о судьбе России или вечные вопросы любви и смерти. Его поэзия – как окно в бесконечность, где шёпот звёзд перекликается с голосом человеческого сердца. И пока звучат строки Тютчева, жива его душа – душа поэта мысли, природы и сердца.